Про шкуру неубитого медведя. Что хочет Запад сделать с Россией и как этому противостоять - «Новости»
- 13:30, 09-авг-2025
- Новости дня / Политика / Россия / Происшествия и криминал / ЖКХ / ДНР и ЛНР / Здоровье / Спорт / Мероприятия / Чемпионат / Европа / Военные действия / Экономика / Технологии / Статистика / Видео / Большой Кавказ / Латинская Америка / Судьи / Азия / Украина / Ростов-на-Дону / Мир / Команды / США / Белоруссия / Власть / Армения / Реформы / Общество / Нижний Новгород / Транспорт / Мнения / Финансы / Мобильные технологии
- Злата
- 0

Я давно говорю и пишу о том, что европейская часть НАТО, прежде всего Великобритания и Германия, а так же скандинавы, поляки и прибалты, готовятся к экзистенциальному финальному, если угодно, противостоянию с Россией в конце нынешнего десятилетия.
Речь не о стандартных оборонительных планах или демонстрации силы, а о полномасштабной, системной подготовке к прокси войне 2028–2030 годов, которая для них станет проверкой на право остаться самостоятельным центром силы.
И ключевой инструмент этой подготовки — продолжающийся украинский кризис. В 2022 году именно Лондон, в лице Бориса Джонсона, уговорил Зеленского отказаться от подписания Стамбульских соглашений. И, несмотря на нынешние попытки команды Трампа, стран глобального Юга, и отдельных европейских политиков, продвинуть мирное урегулирование, никаких финальных договорённостей до сих пор не достигнуто.
Уверен, что и нынешняя активизация на мирном треке вызовет целую бурю сопротивления у бенефициаров войны на Украине из Евро-Атлантики. А все потому, что украинский кризис выгоден Европе как форма отсрочки — он даёт время на перевооружение, милитаризацию, боевую цифровизацию и запуск новых долгосрочных стратегий давления на Россию. А так же, является удобной причиной, чтобы развернуть свои страны в сторону сокращения социальных программ и значительного увеличения военных расходов, параллельно с очевидным сокращением прав и свобод, увеличением слежки за собственными гражданами, расширением полномочий силовиков и преследования оппозиции. Наконец, этот кризис и всё с ним связанное оправдывает сохранение и даже попытки расширения колоссального объема антироссийских санкций.
Украинская война для Европы — насос, высасывающий из России ресурсы: человеческие, финансовые, технологические. Он не даёт Москве провести спокойно и вдумчиво глубокую реформу армии и ВПК, нарастить вооружения, модернизировать оборонную промышленность. Все приходится делать "с колес" в условиях ограниченных ресурсов. Война сохраняет технологическое давление, которое ограничивает развитие ключевых отраслей. Пока идёт эта война, Россия не может сосредоточиться на подготовке к куда более опасному противостоянию — кризису рубежа десятилетия, полномасштабную подготовку к которому уже развернули европейцы.
В 2022–2023 годах на Западе ещё существовала иллюзия, что с помощью Украины можно нанести России военное поражение и добиться смены власти в Москве. Эти надежды не оправдались. Именно поэтому сегодня выбран новый план — долгосрочная осада, рассчитанная на годы. Вопреки даже настроениям нынешней администрации в Белом доме, европейские столицы сохраняют курс на затягивание конфликта.
Причина проста: аналитические центры и политические элиты Европы понимают, что если в ближайшие годы не произойдёт чего-то экстраординарного, в 2030–2040-х годах ЕС и Британия окончательно потеряют глобальное влияние. США, Китай и Россия будут играть первую скрипку в мировой политике, а Европа окажется лишь объектом чужой воли. "Блюдом на столе". А это будет уже подлинный "Закат Европы" и конец многовековому доминированию европейских элит. И, конечно же, они готовы рискнуть всем, чтобы этого избежать.
Отсюда — отчаянный план: к 2028–2030 году, через системное ослабление России, атаки на ее инфраструктуру, теракты, диверсии, этнические и конфессиональные конфликты, криминализацию миграции и полукриминальные диаспоры, наконец через блокаду российского энергетического экспорта, вызвать внутреннюю дестабилизацию, сменить власть и поставить в Кремле элиту, полностью зависимую от европейского центра силы. В идеале — расчленить страну на управляемые сегменты. В более реалистичном варианте — превратить её в сырьевой придаток под контролем ЕС и Британии. Это и есть тот замысел, который объясняет, почему украинский кризис так упорно поддерживается, и почему Европа готовится к своей решающей партии уже сегодня.
И российский углеводородный экспорт по сей день являющийся основной опорой наполняемости доходной части бюджета РФ закономерно признается европейскими людоедами самым уязвимым местом во всей конструкции стабильности российской государственности. Обрушение этих доходов способно вызвать эффект домино в социально-экономической, что закономерно, и политической сферах. А потому в сердцевине того самого отчаянного плана "рептилоидов" против России лежит план сокращения российского углеводородного экспорта в ближайшие пять лет на 30-40 процентов.
Давайте разбираться, возможно ли это и что Запад намерен предпринимать для достижения своих черных целей.
Итак. По состоянию на 2024–2025 годы углеводородный экспорт остаётся ключевым источником валютных поступлений и доходов федерального бюджета России. Нефть и нефтепродукты формируют около 45–50% экспортной выручки и около трети доходной части бюджета. Газ в трубопроводной и сжиженной форме добавляет ещё примерно 6% совокупных бюджетных доходов, но его роль в валютных поступлениях чуть выше — порядка 10–12%.
Нефтяная отрасль, несмотря на санкции, сумела перенаправить значительную часть поставок из Европы в Азию, главным образом в Китай и Индию. К 2025 году доля этих двух стран в российском экспорте нефти превысила 70%. Однако этот разворот на Восток имеет свои пределы: инфраструктурные ограничения портов Дальнего Востока и пропускной способности железнодорожных магистралей уже становятся фактором торможения. Увеличение экспорта через Арктику развивается медленнее, чем планировалось, в том числе из-за климатических и логистических ограничений.
Важный нюанс - экспорт нефтепродуктов (значительно выше добавочная стоимость) пострадал в большей степени от санкционных барьеров, чем экспорт сырой нефти. Россия вынуждена перестраивать логистику, использовать более длинные маршруты, что повышает транспортные издержки. Соответственно, доля заработка от продажи нефти в общем объёме экспортных доходов растет, но это сокращает возможности для маневра, ставя, будем честны, российский экспорт в жесткую зависимость от ограниченного круга покупателей. Недавние танцы с бубном Трампа вокруг вторичных санкций для покупателей российской нефти именно об этом. Ограничения экономического порядка создают уязвимости в политической сфере.
Идем дальше.
Российский газовый сектор, в то же время, переживает еще более масштабные структурные изменения. Потеря европейского рынка трубопроводного газа — результат не только санкций, но и сознательной политики ЕС по сокращению зависимости от российских энергоносителей. Основные перспективы восстановления объемов продаж здесь связаны с расширением поставок в Китай по "Силе Сибири" и проектам в рамках СПГ, прежде всего в Арктике. Но доля газа в бюджете и экспорте уже вряд ли вернётся к уровням 2010-х годов. Даже после завершения конфликта, даже к 2030-му.
На фоне этих изменений выросла роль других экспортных направлений: уголь, металлургия, удобрения, аграрка. Однако ни один из этих секторов не способен по объёмам и маржинальности заменить нефтегаз. Металлургия, даже в оптимистичном сценарии, может дать лишь до 7–8% экспортных доходов, и прогноз по ней скорее на снижение доходов в ближайшие годы. Аграрный сектор — до 6–7%, и будет расти, но не высокими темпами. Плюс, зависимость от климатических обстоятельств. Удобрения — 3–4%, без особых перспектив значительно нарастить экспортные объемы. Все те же санкции в действии – так их, раз так!
И повторюсь, даже если говорить вообще о российском экспорте - важный тренд — рост зависимости от ограниченного числа покупателей. Китай, Индия и Турция стали не только ключевыми покупателями, но и факторами, определяющими ценовую конъюнктуру. А в случае любых политических или экономических разногласий снижение объемов экономического сотрудничества моментально скажется на состоянии российской экономики. Такая зависимость, конечно же, фактор повышенного риска. И эти слабости экономики РФ конечно же видят ее недруги. Больше того, они ими и были просчитаны, спланированы и реализованы. Зачем? Смотри выше про их планы.
В сумме картина такая: Россия адаптировалась к санкциям, но структура экспорта стала более концентрированной, а логистика — более протяжённой и затратной. Это означает, что в случае искусственного ограничения поставок через ключевые морские узлы — Балтику и Чёрное море — потери будут не только финансовыми, но и стратегическими, ведь альтернативные маршруты уже близки к пределу. И вот тут мы подходим к главным пунктам планов европейских милитаристов.
Сначала общая рамка. К 2028–2030 годам перспективы российского углеводородного экспорта будут определяться сочетанием инфраструктурных, санкционных и рыночных факторов. На инфраструктурном уровне Россия рассчитывает завершить ряд крупных проектов, включая расширение пропускной способности портов Дальнего Востока, модернизацию арктических СПГ-терминалов и развитие маршрутов по Северному морскому пути. Эти меры способны увеличить возможности поставок на азиатские рынки на 15–20 процентов, однако даже в оптимистичном сценарии они не компенсируют потенциальную потерю балтийских и черноморских маршрутов, через которые сейчас проходит свыше шестидесяти процентов морского экспорта нефти и нефтепродуктов.
Санкционное давление к этому времени, с высокой вероятностью, сохранится и даже усилится. Европейские государства уже закладывают в свои оборонно-энергетические стратегии сценарии энергетической блокады России, включая создание коалиций по контролю морских перевозок, ограничения на страхование, сертификацию и портовый доступ танкеров. Даже без прямого запрета на перевозки подобные меры могут серьёзно осложнить поставки в Азию, увеличивая издержки и снижая рентабельность экспорта.
Рыночная конъюнктура в Азии останется ключевым фактором, но она будет зависеть от конкуренции с Ближним Востоком и Африкой, которые активно наращивают добычу и экспорт. При росте их предложения Россия может быть вынуждена предоставлять ценовые скидки, что приведёт к снижению доходов бюджета даже при сохранении физических объёмов поставок.
В оптимистичном варианте инфраструктурные проекты на Востоке и Севере страны реализуются в полном объёме, поставки в Китай, Индию и Юго-Восточную Азию остаются стабильными, а планируемая глобалистами блокада Балтики и Чёрного моря не принимает масштабного характера. В этом случае потери от санкций частично компенсируются ростом альтернативных маршрутов, а доля нефтегазовых доходов в бюджете удерживается на уровне 35–37 процентов. Базовый (вероятный, без резкой эскалации) сценарий предполагает ограниченное расширение восточных мощностей, частичную блокировку отдельных портов и периодические перебои в поставках, что сокращает нефтегазовые доходы до 28–30 процентов бюджета и вынуждает искать дополнительные источники экспортной выручки.
Жёсткий сценарий означает комплексную блокаду Балтики и Чёрного моря, синхронизированную с политическим кризисом или локальными конфликтами в приграничных регионах. Это приведёт к потере до половины текущих экспортных объёмов нефти и нефтепродуктов и падению нефтегазовых доходов бюджета до 20–22 процентов.
Независимо от сценария сохраняется ключевой риск технологического сдерживания: без доступа к современному оборудованию и технологиям для добычи и переработки долгосрочное наращивание экспорта будет ограничено. В результате в 2028–2030 годах углеводородный экспорт останется одновременно опорой российской экономики и одной из её главных уязвимостей, а любое резкое сокращение этих потоков, особенно в условиях блокады ключевых морских узлов, способно быстро трансформироваться в системный кризис бюджета и валютных поступлений.
К концу текущего десятилетия применение против России тотальных ограничительных мер на Балтике и в Чёрном море рассматривается европейскими и британскими стратегами как инструмент давления, синхронизированный с другими элементами экономической и политической дестабилизации.
Консервативный сценарий блокировки предполагает использование инструментов "мягкого" принуждения: ужесточение экологических и технических стандартов, введение обязательных дополнительных инспекций в проливах, ограничения страхования и лицензирования судов, заходящих в российские порты. Такие меры будут позиционироваться как нейтральные и невоенные, однако их эффект может привести к задержкам в поставках, удорожанию логистики и постепенному вытеснению части российских объёмов с рынка.
Базовый сценарий включает координированные действия стран Балтии, Польши, Румынии и Турции при политической поддержке НАТО и ЕС, направленные на частичную блокировку портов, усиление контроля за транзитом и ограничения на перевалку сырья в нейтральных портах. В этом случае Россия столкнётся с сокращением экспортных мощностей в ключевых морских бассейнах на 30–40 процентов, что при сохранении санкционного режима и ценового давления со стороны конкурентов в Азии может сократить валютные поступления на 25–30 миллиардов долларов в год. Жёсткий сценарий, который европейские аналитические центры обсуждают не публично, но рассматривают в долгосрочных моделях, предполагает фактическую блокаду отдельных портов через создание "зон безопасности" или "контролируемых морских пространств" под предлогом защиты судоходства и экологии, в сочетании с активными мерами против судов под российским флагом и партнёрских перевозчиков.
Такая стратегия может быть дополнена поддержкой прокси-конфликтов в приграничных регионах, провоцированием политической нестабильности в дружественных России странах и усилением кибератак на портовую инфраструктуру и системы управления транспортными потоками. При реализации этого сценария объём морского экспорта нефти и нефтепродуктов на Балтике и в Черном море может упасть на 50–60 процентов, что эквивалентно потере более чем 10 процентов нефтегазовых доходов бюджета. Ситуация усугубится, если параллельно будут введены дополнительные ограничения на трубопроводный экспорт в Европу, включая реверсные поставки по нефтепроводам и газопроводам. В каждом из сценариев ключевым последствием станет не только снижение доходов, но и потеря части долгосрочных контрактов и рынков, восстановление которых в условиях жёсткой глобальной конкуренции займёт годы. Именно поэтому оценка угроз и подготовка к подобным вариантам требуют не только технических решений, но и переосмысления всей архитектуры внешнеэкономических связей России. А, также, чего уж скромничать, военно-морского присутствия в этих регионах.
И здесь нужно рассмотреть еще один важный аспект, который, уверяю вас, буквально под микроскопом рассматривают задумавшие эту прокси войну глобалисты. Инструменты финансовой стабильности РФ.
Вообще, понятие подушки безопасности для российской экономики в контексте потенциальной блокировки морского экспорта — это не только резервы в виде золотовалютных активов, ФНБ (Фонда народного благосостояния) или суверенных фондов, но и вся совокупность возможностей для оперативного и долгосрочного замещения выпадающих доходов.
На сегодняшний день Россия располагает примерно 600 млрд долларов международных резервов, из которых часть заморожена, но остаётся значительная доля в доступных активах, включая золото, юаневые и другие "недружественные" глобалистам валюты. Фонд национального благосостояния на середину 2025 года имеет ликвидную часть в пределах 9–10 трлн рублей, что в эквиваленте даёт около 90–100 млрд долларов, однако эти средства предназначены не только для покрытия дефицита бюджета, но и для инвестиций в приоритетные проекты.
В условиях жёсткого сценария блокировки ключевым фактором станет скорость, с которой государство сможет адаптировать бюджетную политику: сокращение неприоритетных расходов, перераспределение внутренних ресурсов, привлечение дополнительных налогов с экспортёров, работающих на азиатские и внутренние рынки.
Структурно, подушка безопасности формируется также за счёт устойчивости внутреннего производства к внешним шокам: уровень продовольственной самообеспеченности, состояние внутренней энергетики, возможности переработки сырья внутри страны и продажи продукции с высокой добавленной стоимостью на альтернативных рынках. В сценарии умеренной "невоенной" блокировки при условии сохранения цен на нефть выше 60 долларов за баррель и стабильного спроса в Азии, Россия сможет удерживать бюджет без критического дефицита на протяжении 3–4 лет, используя накопленные резервы и перенаправляя экспортные потоки.
Однако при жёстком сценарии с падением морского экспорта на 50–60 процентов и дополнительными ограничениями на трубопроводные поставки, даже при полном использовании ФНБ и золотовалютных резервов, запас прочности составит 18–24 месяца, после чего возникнет необходимость либо резкого секвестра расходов, либо привлечения заимствований под внутренние ресурсы, что увеличит долговую нагрузку и инфляционные риски.
Важным элементом здесь становится не только наличие финансовых накоплений, но и готовность к их использованию в условиях кризиса — политическая, управленческая и институциональная. Если эти механизмы будут отлажены заранее, то даже в условиях серьёзных внешних ограничений Россия сможет сохранить макроэкономическую стабильность и выиграть время для структурной перестройки экономики. Если же адаптация будет запоздалой или половинчатой, то подушка безопасности перестанет быть стратегическим ресурсом и превратится в временную отсрочку более глубокого кризиса. И "глубокого" здесь означает политического.
Возможный консервативный сценарий ограничения российского морского экспорта через Балтику и Чёрное море в конце текущего десятилетия может реализоваться без прямого военного столкновения, но при этом оказать существенное воздействие на доходы федерального бюджета и общую структуру внешней торговли.
На Балтике таким инструментом может стать ужесточение экологических, навигационных и страховых требований для судов, заходящих в российские порты, введение дополнительных сборов, а также координация действий стран ЕС по ограничению транзита через их акватории и территориальные воды. Это создаст эффект "административной блокады", при котором суда смогут физически проходить, но коммерческая привлекательность маршрута будет резко снижена.
В Чёрном море ключевым элементом может стать комбинация давления через международные конвенции по безопасности мореплавания и усиленный контроль над Босфором и Дарданеллами со стороны Турции под предлогом обеспечения безопасности. Здесь возможен сценарий, при котором Анкара, оставаясь формально нейтральной, вводит временные ограничения на прохождение танкеров определённого класса или флагов, что затруднит поставки нефти и нефтепродуктов в Средиземноморье. Дополнительным фактором может стать активизация Украины в информационной и юридической плоскости, создание постоянного давления через международные организации, обвинения России в нарушении норм морского права и экологических стандартов. В совокупности эти меры способны снизить грузооборот в ключевых российских портах на 20–30 процентов даже без формальной блокады.
Для адаптации к такому сценарию России придётся наращивать мощности восточных маршрутов, модернизировать Северный морской путь и расширять возможности железнодорожного и трубопроводного экспорта в дружественные страны. При этом главная особенность консервативного сценария в том, что он не вызывает мгновенного кризиса, но постепенно истощает конкурентные позиции российского экспорта, вынуждая работать на менее выгодных рынках и с большими транспортными издержками. Такой подход выгоден европейским странам и их партнёрам, поскольку позволяет оказывать давление на Россию без риска резкой эскалации и без необходимости принимать на себя политическую ответственность за введение прямой морской блокады. Для России же это создаёт необходимость заранее формировать альтернативную логистику и укреплять финансовую устойчивость, чтобы эффект постепенного "удушения" не стал критическим к моменту наступления более жёстких сценариев.
В моем представлении, и оно синхронизировано с прогнозами и моделями ведущих финансовых, экономических и военных аналитиков, финальный аккорд консервативного, "невоенного" или "полувоенного" сценария 2028–2030 выглядит как сеть синхронизированных событий, где локальные кризисы на периметре и в море сплетаются с юридическими и информационными инструментами давления, а так же диверсионной деятельностью западных разведок и атаками с помощью "мягкой силы". На Балтике это начинается не с выстрела, а с "шумов" в навигации, инцидентов с подводными кабелями, прочей морской инфраструктурой и усиленного патрулирования в проливах. Каждый эпизод даёт основание для временных "зон работ", обязательного сопровождения, тотальных инспекций и страховых требований к возрасту, классу и документам судов. Формально транзит не закрыт, но поток вязнет в фильтрах: теневой тоннаж вытесняется, белые страховщики повышают премии (либо вовсе выходят из игры), окна погрузки срываются. Балтика превращается в "узкое горлышко", где минус сорок–шестьдесят процентов пропускной способности достигается не приказом о блокаде или военным положением, а занудной цепочкой техрегламентов, эко-режимов и порт-стейт контроля.
В Чёрном море логика иная, но цель та же. Турция, сохраняя режим конвенции и свободу торгового прохода, вводит расширенные подтверждения P&I, возрастные пороги и предписания по безопасности при любом всплеске минной или дроновой активности. На входе в проливы накапливаются очереди, а у Новороссийска и Туапсе тревожные паузы из-за БПЛА и мнимых или реальных опасных районов делают график неритмичным. В сумме это даёт устойчивое минус тридцать–пятьдесят процентов по фактической пропускной способности без объявления войны, но с постоянной ссылкой на безопасность судоходства и экологию.
Поверх морского слоя накладывается санкционный и финансовый. Расширяются санкционные списки судовладельцев и менеджеров, ограничивается доступ к бункеровке и портовым услугам, страховые пулы "сушат" покрытие для рисковых маршрутов, банки ужесточают комплаенс по расчётам. Алгоритмические системы мониторинга трека и AIS-анализ становятся "датчиками", которые подают поводы для досмотров и отказов, а информационные кампании превращают каждое происшествие в аргумент для новых ограничений. Юридическая рамка работает как "дроссель": чем больше фактов нарушений и рисков в публичном поле, тем легче оправдывать фильтры и затяжные инспекции.
Внутри России параллельно запускается контур невоенного давления. Кибератаки по транспортным узлам, инфраструктурным обьектам и энергосетям вызывают каскады задержек и вынужденные остановки, даже если физического ущерба нет. Информационные операции целят в легитимность экспортной логистики: резонансные сюжеты о "грязной нефти", авариях и "серых" схемах подталкивают нейтральных контрагентов к отказам от сервисов. Низкоуровневые диверсии на железной дороге, складах и насосных станциях увеличивают непредсказуемость; параллельно "lawfare" — иски и регуляторные преследования в третьих юрисдикциях — усложняют фрахт и страхование.
На поверхности это выглядит как множество несвязанных эпизодов, но в экономике складывается в одну картину: длиннее плечо, дороже страховка, меньше доступный флот, ниже скорость оборота — и, как следствие, устойчивый дисконт к цене Urals и выпадение бюджетных доходов.
Эта полублокада не одномоментна. Она проходит в три фазы. Сначала — фон риска: участившиеся учения, единичные списки судов, выборочные задержки. Затем — режим фильтров: тотальный порт-стейт контроль, обязательные письма страховщиков, запрет STS и расширенные эко-требования в узлах. В финале — устойчивая полублокада: хронические очереди, закрытия участков под обследования, системные простои и сдвиг судов из "белого" сегмента. На пике связка Балтика плюс Чёрное море воспроизводит жёсткий макроэффект: минус шесть–десять процентов общих доходов бюджета за счёт сжатия физических объёмов и постоянного дисконта, без юридического объявления тотальной блокады.
Ответ России в таком сценарии обязан быть асимметричным и заранее подготовленным. Усиление восточных маршрутов и арктической логистики важно, но не решает проблему в одиночку: критично создать "чистую" страховую и классификационную инфраструктуру, диверсифицировать флот и стандарты безопасности, закрыть кибершлюзы в КИИ портов и ж/д, развернуть режим доказуемой прозрачности операций, который снижает пространство для регуляторных атак. На уровне бюджета — укрепить финансовый амортизатор и автоматические стабилизаторы, чтобы пики дисконта и простоев не превращались в фискальные обвалы. На уровне внешней политики — расширять клуб контрагентов, готовых публично подтверждать законность и безопасность операций, и переводить спорные вопросы в правовые рамки, где злоупотребления safety/eco могут быть оспорены.
Кризис 2028–2030 в этой модели не "взрыв", а долговременная "осада", где сети датчиков, регламентов и страховых ограничений делают то, что ранее делали корабли и мины. Побеждает тот, у кого длиннее дыхание, честнее бухгалтерия логистики и крепче нервы у операторов критической инфраструктуры. Если Россия войдёт в этот период с тонкой ликвидной подушкой, сырой киберзащитой и экспортной зависимостью от ограниченного перечня сервисов, итог предсказуем: дорогой фрахт, постоянные задержки и бюджетный недобор. Если же "прошивка" отрасли будет обновлена заранее — от флота и страхования до судебной защиты и кибераудита, — "узкие горлышки" останутся болезненными, но не фатальными, а полублокада превратится в управляемый риск, а не в стратегическое поражение.
Ну и наконец, рассмотрим клинический случай, тот самый "взрыв" - Европа и глобалисты, балансируя на грани прямого столкновения (ну ей Богу, не представляю я, что они решатся на открытую войну с ведущей ядерной державой) запускают в сочетании со всем вышеописанным еще и военные сценарии. Формируя один, или несколько, или вообще цепочку локальных вооруженных конфликтов/кризисов по российскому периметру. В данном случает это Балтика и Черное море, возможно, в комплексе с Балтикой и Норвежское море. Возможно, только один регион (вероятнее всего Балтика), возможно все вместе. Возможно, размораживая к тому же, затушенный я надеюсь к тому моменту, украинский кризис.
Ниже — возможная модель локальных прокси-конфликтов 2028–2030 годов. В каждом кейсе допущение одно: избегается прямое столкновение НАТО и России, но создаются юридические и операционные поводы для тотальной экспорта через Балтику и Чёрное море и военного истощения России. Со всеми, как "рептилоиды" надеются, вытекающими. В виде политического кризиса, возможной сменой власти, а может, и это их заветная мечта, и развалом Российской Федерации.
Итак. В вышеописанной логике возможный кризис на финском направлении возникает из череды морских и киберинцидентов в Финском заливе: ложные цели на навигации, повреждения подводных кабелей, перехваты БПЛА у границы. Хельсинки и партнёры усиливают патрулирование, вводят длительные зоны обследований и повышенные требования к страхованию и классу судов. Формально транзитный проход не ограничен, но очередь на проливах растёт, теневой флот выводится из игры, а "белые" страховщики повышают премии. Эффект — упругая деформация логистики из Балтики: меньше доступного тоннажа, больше простоев, стабильный дисконт к цене и сокращение оборота. Финские военные активно противодействуют идущим в российские порты и из них судам, устраивают агрессивные маневры в виду российских военных. Запускается череда провокаций на сухопутной границе. Дальше разрыв дипломатических отношений, и введение блокады, присоединение к ней других балтийских стран Альянса.
Балтийский очаг вокруг Калининградского анклава и Сувалкского коридора развивается как наземно-морская "серость": на суше — пограничные кризисы, транспортные проверки, точечные инциденты на ж/д; на море — навигационные помехи, экоинциденты, после которого страны региона синхронно вводят усиленный порт-стейт контроль, фактически переводя инспекции в режим тотального фильтра. Параллельно расширяются санкционные списки судовладельцев, бункеровка и агентские услуги "под зоной риска" сворачиваются. События развиваются стремительно. Какая-то из сопредельных стран, Польша или Литва, заявляя что действуют на свой страх и риск (но в реальности, конечно же согласовано) применяют военную силу под видом "полицейской операции".
Сценарий "Беларусь — Литва/Польша" развивается как затяжная пограничная турбулентность: взаимные ограничения, периодические "учения безопасности" с закрытием участков, полосы обеспечения. В море это транслируется в дополнительный фон риска для балтийских коридоров, легитимирующий длительные проверки и возрастные пороги для судов, работающих с российскими портами. Итог — накопительный эффект и разогрев. Дальше – все как выше описано.
Юго-западный вектор — Приднестровье/Молдова/Румыния — выстреливает серией политико-безопасностных эскалаций на Днестре. Наиболее вероятный сценарий – попытка "окончательного решения приднестровского вопроса" Молдавией с прямым или опосредованным участием Румынии, а может и Болгарии. Турция схраняют формально нейтралитет, но закрывают Босфор. Дальше – сценарий схож с балтийским – дипломатические ноты и военные операции "на свой страх и риск".
Такой "сетевой" сценарий по мнению НАТО-вских планировщиков не вызовет всеобъемлющей войны, но в сочетании со всем комплексом недружественных мероприятия описанным в предыдущих блоках, по их представлениям способен надломить Россию. И эти их планы нужно воспринимать не как бзики вырожденцев и истерику оголтелых русофобов, а очень серьезно, как холодный и циничный план подыхающей, но еще очень сильной рептилии способной в последнем рывке вцепиться в горло и утащить с собой в могилу!
Что со всем этим делать? Готовиться! Реформировать госуправление, финансы и экономику. Логистику и инфраструктуру. Армию, флот и ВПК. Формировать сильные международные альянсы, и диверсифицировать экспорт. Наконец. по возможности, максимально быстро и без рисков для стабильности завершить нынешний виток украинского кризиса. И перейти к формированию восстановлению и увеличению всех видов резервов. И, главное, не на секунду не сомневаться, что рептилия атакует.






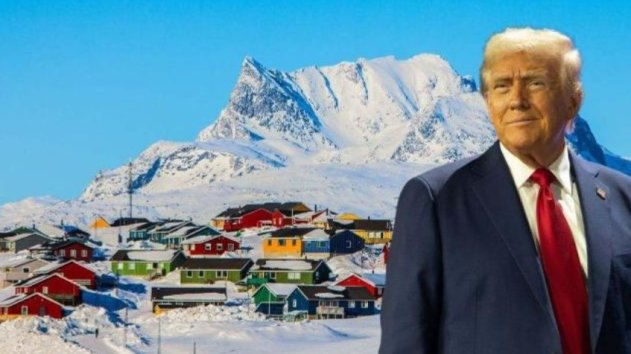
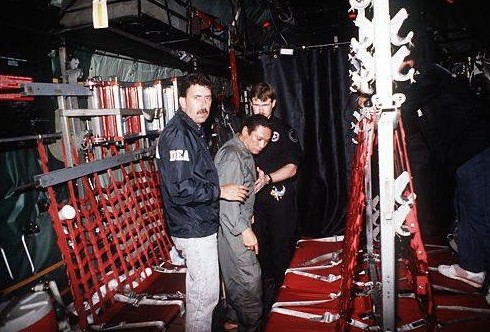





Комментарии (0)